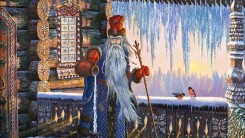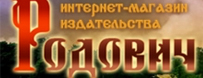Представления о смерти и переходе души
Дохристианские славяне и скандинавы верили, что смерть — это переход души из мира живых в иной мир, а не полное исчезновение личности. У славян загробный мир называли Навь — обитель мёртвых, противопоставленная явному миру живых (Явь). Славянские мифы упоминают, что душа усопшего должна попасть в Навь, а затем найти новую обитель, пройдя через некий «золотой мост». Этот мост отождествляли с Калиновым мостом — мифическим переходом через пограничную реку, отделяющую миры. Считалось, что на Калиновом мосту душу встречает бог Велес (пастырь мёртвых) и проводит её дальше. Благодаря таким представлениям славяне воспринимали смерть как продолжение пути души: достойно проживший человек отправляется к предкам в Навь, откуда его дух может затем вернуться в мир Яви — например, в роду потом может родиться ребёнок с его душой (идея реинкарнации у некоторых племён) или дух станет хранителем семьи.
У скандинавских народов (в эпоху викингов) существовала сложная картина загробного мира. Погибших в бою воинов ждали чертоги богов: наиболее доблестных забирал Один в Валгаллу (Вальхаллу) — огромный зал павших, где они становились эйнхериями (героями Одина), пируя и сражаясь до наступления Рагнарёка. Согласно «Младшей Эдде», Валгалла имела 540 дверей, и из каждой в день последней битвы выйдет по 800 воинов — так велик был сонм принятых туда героев. Других погибших воинов могла принять богиня Фрейя в своих чертогах (Фолькванг). Те же, кто умер естественной смертью — от болезней, старости или без славных подвигов — попадали в царство богини Хель. Хельхейм (мир Хель) представлялся мрачным подземным царством, но не аналогом христианского ада: это просто обитель мёртвых без славы, где души существовали в тоске и блеклом отражении жизни. Для утонувших моряков, по верованиям, существовала особая участь — их забирала богиня Ран в свои подводные чертоги. Несмотря на разные пути, скандинавы тоже верили, что душа продолжает жить после смерти и может влиять на мир живых. Поэтому правильный обряд погребения был важен, чтобы усопший получил своё предназначенное место и не превратился в беспокойного мертвеца.
Важно отметить, что и славяне, и викинги чтили культ предков. У славян существовали специальные дни поминовения — например, Деды (Диди, Навии дни), когда живые совершали обряды для кормления душ предков, приглашая их к семейной трапезе. У скандинавов аналогично бытовали семейные поминальные обряды, например, дисаблот (жертвы дисам — женским духам-покровительницам рода) и альваблот (жертвоприношение альвам, т.е. духам умерших), проводимые в домах тайно. Всё это отражает представление, что умершие не исчезают навсегда: они становятся «невидимыми членами» общины, требующими уважения и ритуального ухода.
Погребальный обряд тризны у древних славян
Среди восточных славян комплекс языческих похоронных обрядов был известен под названием «тризна». Первоначально тризна включала целый ряд действий, совершавшихся до, во время и после погребения. По летописным сведениям, тризной называли как минимум часть похоронного ритуала, состоявшую из песен, плясок, пиршества и воинских состязаний в честь покойного, проводимых на месте погребения. Позднее, уже в христианскую эпоху, слово «тризна» стало синонимом поминок — поминальной трапезы, но в изначальном смысле это понятие было гораздо шире и сопровождало весь процесс прощания с умершим.
Основные этапы славянской тризны можно реконструировать так:
-
Омовение и обрядовое облачение покойника. Тело усопшего тщательно обмывали (часто женщинами-родственницами или специальными обрядовыми лицами) — это символическое очищение перед переходом в иной мир. Затем покойника одевали в лучшие праздничные одежды, украшали украшениями, оружием (если это мужчина-воин) — считалось, что человек должен предстать перед предками и богами в подобающем виде. Например, археологические находки свидетельствуют, что в курганных погребениях знатных славян IX—X вв. тела иногда облачены в богатые костюмы, с ними помещены личные вещи и дары.
-
Ритуальное бдение у тела. После подготовки покойника следовал период прощального бдения (в современной терминологии — поминальный вечер). Родственники и односельчане собирались вокруг усопшего в его доме или на специально отведённом месте. В течение этого времени звучали причитания и похоронные плачи — особые обрядовые песни, в которых оплакивали умершего, обращались к нему и к богам. Женщины-плакальщицы исполняли импровизированные плачи, восхваляя добродетели покойного, выражая горечь утраты и просьбы к высшим силам помочь душе. Летописи указывают, что подобные плачи были обязательной частью похорон князей и простолюдинов: «плакали по нём бояре как о заступнике страны, бедные же — как о своём кормильце» — говорится, например, о князе Владимире. Иногда тексты плачей даже записаны: так, князь Ярополк в 1078 году оплакивал отца Изяслава словами: «Отче, отче мой! Что еси пожил без печали на свете сем, многы напасти приим от людий и от братья своея? Се же погибе не от брата, но за брата своего положи главу свою». В этих словах — скорбь сына и одновременно честь, что отец умер за брата, а не от братской вражды. Такие причитания выполняли и психологическую функцию (дать выход горю), и магическую — правильный плач задавал душе путь в иной мир.Помимо плачей, бдение могло сопровождаться и обрядовым весельем. По свидетельству археолога Б.А. Рыбакова и другим данным, у славян было принято поминать покойного не только слезами, но и веселыми воспоминаниями, песнями, иногда даже танцами. Это связано с верой, что чрезмерная скорбь может удерживать душу, а радостное прославление жизни покойного помогает ей спокойно отойти. Так возникал дуализм: женщины плачут, призывая душу к прощанию, а мужчины могут петь боевые песни или славить достоинства усопшего.
-
Кремация (сожжение) либо погребение тела. Кульминацией обряда было непосредственное прощание — либо сожжение тела на погребальном костре, либо захоронение в землю (в кургане или могиле). В ранний период преобладала кремация: летописец прямо указывает, что радимичи, вятичи, северяне «творяху тризну над ним и потом творяху кладу велику, и возложаху на кладу мертвеца и сожжаху», а затем собирали кости и складывали в сосуд, который ставили на столпе у дороги. Здесь под «кладой» (или «крадой») подразумевается погребальный костёр. Костёр устраивали из особых пород дерева — часто священного дуба, берёзы. По некоторым реконструкциям, костёр (крада) мог иметь прямоугольную форму, высотой до плеч человека. Тело на краде ориентировали головой на запад, «носом» гроба (или ладьи) на закат, «дабы душа отправилась за уходящим солнцем». Огонь поджигали либо ближайшие родственники, либо жрец. Существовало поверье: «огонь — это портал в загробный мир», по огненному столпу, устремившемуся в небо, душа вознесётся к Нави. Огонь также выступал как очиститель: священное пламя очищает душу от скверны, грехов, налипших в мире Яви, чтобы она была достойна вступить в мир предков. Именно поэтому без обряда сожжения, полагали, душа могла остаться нечистой и не пройти в загробный мир.После сожжения останки (пепел, кости) либо рассеивали по ветру — над рекой, в чистом поле — либо собирали в глиняный горшок-урну и устанавливали на столбе. Поставление урны с прахом на высокий деревянный столб — интересный обычай, зафиксированный у племени вятичей. Вокруг урны иногда строили маленький деревянный домик, скворешню с крышей — своего рода «избушка на столбе», чтобы защитить прах. Исследователи видят в этом символ соединения миров: душа помещалась выше земли, ближе к небу, под кровом как бы домика — она как гость между миром живых и мёртвых. Не случайно, образ избушки на курьих ножках в славянском фольклоре, возможно, берёт начало в памяти о таких погребальных столпах. Установка урны у дороги (на распутье) могла означать, что дух покойника — теперь хранитель пути, его помнят проходящие, и одновременно, чтобы душа знала дорогу в иной мир. В ряде случаев прах всё же зарывали в землю — в небольших курганцах или могилах. Особенно это стало практиковаться в регионах, где под влиянием соседних культур (например, иранских племён) распространилось трупоположение без сожжения. Но в домонгольской Руси вплоть до X века кремация оставалась очень распространённой: «племена кривичей, северян и радимичей сжигали покойников, тогда как древляне и поляне хоронили в землю» — говорится в летописи. Лишь с XI века, с укреплением христианства, обряд сожжения практически сошёл на нет.
-
Воинские игрища и состязания. После (или во время) кремации на месте погребения устраивалась собственно тризна в узком смысле — цикл поминальных действий: игры, пляски, воинские поединки, конные состязания в честь усопшегоr. Назначение этих игр было двойственным. С одной стороны, они отдавали дань мужеству покойного, особенно если это был воин или охотник: молодцы мерялись силой, устраивали кулачные бои, боролись, скакали на конях — всё, чтобы прославить доблесть ушедшего и «воспеть храбрость усопшего». С другой стороны, шумное веселье и драки имели сакральную цель — отогнать злые силы от живых и от самого покойника. В славянских поверьях смерть привлекает нечисть, навьих духов, которые могут вредить оставшимся. Громкая тризна — с оружием, криками, музыкой — отпугивала зло от поселения и как бы охраняла переход души. Недаром аналогичные погребальные игры известны у многих индоевропейских народов (например, у древних греков проводились спортивные игры на могиле Патрокла в «Илиаде»). В одной из картин художника Г. Семирадского «Тризна дружинников Святослава» (1884) как раз изображены ночные жертвоприношения и пляски воинов на кургане после битвы — пытаясь передать атмосферу того обряда.Помимо боевых игр, на тризне могли исполняться ритуальные пляски и песни. Фольклор сохранил некоторые отголоски таких обычаев. Например, упоминается, что во время тризны пели похвальные песни («славления») в честь рода, богов-покровителей и самого усопшего. Могли разыгрываться сцены из жизни покойника, исполняться обрядовые танцы, символизирующие победу жизни над смертью. Всё это одновременно выражало и скорбь, и уважение. Огонь при этом продолжал гореть в кострище — часто на месте костра поддерживали «живой огонь» всю ночь.
-
Поминальное пиршество (страва). Завершалась тризна общим поминальным пиром. Это называлось «страва» — от слова «стрясть, готовить еду» (возможно, однокоренное со «съесть, стряпня»). Ещё летописец Нестор описывал эпизод с княгиней Ольгой: после убийства её мужа Игоря древлянами она, придя мстить, потребовала: «Да пристроите меды многи... да поплачюся над гробом его и створю тризну мужу своему». Древляне сварили пиво и мёд, пригласили её на могилу Игоря, где Ольга совершила обряд плача, а затем велела своим людям «трызну творити», т.е. устроить поминальное питие. В контексте истории это обернулось кровавой расправой (Ольга перебила опьяневших врагов), но важно, что сами древляне знали: тризна = питьё медов на гробе. Таким образом, обильное возлияние и трапеза — обязательная часть обряда. На стравах ели мясо жертвенных животных, кашу, блины, пили хмельные напитки (пиво, брагу, мёд) — поминали умершего добрым словом. При этом часть пищи обычно отдавали духу покойника: либо бросали в огонь куски, либо оставляли на могиле еду и кружку с напитком. Верили, что душа придёт и вкусит невидимо свою долю. Поминальная еда нередко имела символический характер — например, кутья (каша с мёдом) у восточных славян сохранилась от языческих времён как ритуальное блюдо на поминки (упоминается даже в православном обиходе).
После завершения всех этих обрядов считалось, что земной путь усопшего завершён правильно. Однако память о нём продолжалась в последующих поминках. По древнеславянскому обычаю, тризну повторяли на 3-й, 9-й и 40-й день после смерти (эти числа — сакральные; позже перекочевали и в христианские поминки). Также через год справляли годовщину. На эти дни вновь устраивали поминальное угощение, звали родичей, поминали умершего («чтобы душа не была в обиде»). Особенно важен был сороковой день — по поверью, именно тогда душа окончательно покидает мир Яви и уходит в Навь, завершив все дела. Если этого дня не отметить, душа могла затосковать и остаться блуждать. В целом культ поминовения предков был для славян краеугольным: они верили, что непочтённый предок превращается в злого духа (упыря, навья), а почитаемый предок — добрый домовой защитник. Поэтому тризна не ограничивалась одним днём похорон, а продолжалась целым циклом поминальных дат.
Пример архаического обращения к богам (реконструкция)
Для представления духовной стороны обряда приведём реконструированный фрагмент молитвы Велесу за душу умершего, составленный на основе славянских мифологических представлений и поздних фольклорных текстов:
«Владыка наш, Боже всезнающий — Велес! Славу тебе пою во время радости и печали. О Тебе помню, потому что Ты податель мудрости, богатства и оберег душам нашим на пути в Мир Иной. Отче над богами тёмными-таёмными, обрати взгляд свой на душу внука Даждьбожьего (имя). Пусть дух его наберётся силы в Нави, душа очистится от скверны и поднимется в Явь. Здесь же мы встретим родича нашего песнями и славами, Тебя, Велес, почитая... Слава Велесу!»
В этой молитве Велес выступает как проводник душ («оберег душам на пути в Мир Иной») и властитель Нави. Видно, как каждое действие обряда осмысляется: душа должна набраться силы в Нави (во время пребывания среди предков) и возродиться в Яви очищенной. Такие обращения, вероятно, произносил либо старший в роду, либо волхв (жрец), руководивший тризной.
Погребальные обычаи скандинавских викингов
Похоронные обряды у скандинавов эпохи викингов имели много общего с славянской тризной по духу (что неудивительно — культуры соприкасались и имели общий индоевропейский корень). Однако назывались они по-другому и имели свои особенности. Прямых свидетельств о названиях таких обрядов немного; известно слово “erfi” (эрфи) — означающее наследственный пир, поминки, а также термин “sumbel” (сюмбел) — ритуальное питие. Тем не менее, условно можно говорить о «викингской тризне», объединяя под этим элементы скандинавского похоронного ритуала: подготовка тела, погребение (нередко в ладье) и поминальный пир.
Ход погребальной церемонии у викингов (по данным археологии, саг и свидетельству арабского путешественника Ибн-Фадлана):
-
Подготовка тела и имущества покойного. После смерти знатного человека скандинавы откладывали погребение на несколько дней (иногда на 10 дней), чтобы всё как следует подготовить. Тело очищали и шили для него новую погребальную одежду — богатый кафтан, плащ, украшения. Покойника могли временно похоронить в земле или поместить в шатёр, пока идут приготовления. Имущество умершего разделялось на три части: одна часть — семье, а две другие предназначались «на погребальные мероприятия». Фактически, значительная доля богатства покойного шла на оплату самого обряда: строительство корабля или погребального костра, закупку провизии и питья для пира, изготовление ритуальных даров. Уже на этом этапе родственники решали, кто из рабов или слуг последует за хозяином в могилу: у скандинавов было принято хоронить вместе с вождями их рабынь, рабов и некоторых животных. Потому выбирали «кандидатов» для жертвоприношения — обычно это была одна наложница-рабыня, добровольно выразившая готовность умереть вместе с господином, а также любимые животные (конь, собака). Выбранную рабыню с момента смерти хозяина и до дня погребения оберегали и ублажали: ей давали много пить (опьяняли медом), позволяли веселиться и исполняли любые желания. Считалось честью для нее сопровождать хозяина, и она проводила последние дни в почёте.
-
Погребальный корабль и костёр. Ключевой особенностью викингов была погребальная ладья. Часто умершего клали не в обычный гроб, а в небольшой деревянный корабль — символ пути и социального статуса мореплавателя. Археологами обнаружены десятки погребальных ладей: тело помещалось в лодке вместе с богатым инвентарём, а сверху корабль либо засыпали курганом, либо сжигали. Ибн-Фадлан видел, как на берегу реки поставили лодку на деревянные подпорки и сделали нечто вроде помоста. Вокруг судна возводились конструкции, чтобы сподручнее было поджигать и складывать дары. Тело покойного укладывали в ладье, обкладывали богатой одеждой, оружием, украшениями, рядом ставили еду, напитки. Такая ладья становилась и гробом, и жертвой богам, и транспортом для души. Скандинавы верили, что душа уплывёт в загробный мир на корабле, преодолевая космический океан. Даже в тех случаях, когда корабль не сжигали, а просто закапывали (как в известных королевских курганах Гокстада, Осеберга в Норвегии), сам факт корабля в могиле — символичный «паспорт» в иной мир. Если корабля не было, могли использовать телегу или лодку символически — но в идеале знатного викинга хоронят в лодье.
-
Жертвоприношения. Около погребального судна перед кремацией совершались жертвенные убийства животных: собаку рассекали пополам и клали в лодку, затем двух лошадей (их гоняли до вспененного состояния, после чего рубили на части), двух коров, петуха и курицу — всех убивали и помещали рядом с телом. Эти жертвы имели несколько значений. Во-первых, обеспечить покойного в загробном мире: кони — чтобы ездить, собака — чтобы охотиться или охранять, петух — возвестить утро новой жизни и т.д. Во-вторых, убивая животных, викинги кормили богов и духов смерти кровью — чтобы те приняли покойника благосклонно. В-третьих, это было приношение душ слуг погибшему, чтобы он не был одинок. Помимо зверей, главным «даром» была уже упомянутая рабыня. Накануне погребения она проходила особый обряд: входила по очереди в шатры всех знатных мужчин сообщества, и каждый совокуплялся с ней, говоря при этом ритуальные слова: «Передай своему господину, что я сделал это из любви к нему». Так воины как бы прощались с вождём через интимный обряд — выражая почтение и любовь. Затем девушку привели к деревянной конструкции вроде ворот, подняли на руках трижды — и в эти мгновения она пророческим взором прозревала потусторонний мир. Ибн-Фадлан записал ее слова при каждом поднятии:
«...Когда они подняли ее в первый раз, она сказала: «Да, я вижу там моего отца и мою мать». Во второй раз она сказала: «Да, я вижу там всех моих умерших родственников, они сидят». В третий раз она сказала: «Да, я вижу там моего господина, сидящего в раю. Рай прекрасен и зелен. Вместе с ним его люди и его юноши-рабы. Он зовёт меня, передайте меня ему»».
В этих словах — концентрированное представление скандинавов о загробном уделе вождя: он в «раю» (подразумевается, видимо, чертог богов, Валгалла или Фолькванг), вокруг него славно живут его дружинники и рабы-отроки, он зовёт любимую наложницу к себе. Услышанное людьми пророчество окончательно убеждало всех, что девушка идёт по правильному пути. После этого её быстро ввели на корабль, где лежало тело вождя, и там старая жрица («Ангел Смерти») перерезала девушке горло и добила ударом (или несколькими ударами) ножа. Так рабыня отправилась служить господину в иной мир — человеческое жертвоприношение как высшая точка обряда.
-
Сожжение корабля. Когда все жертвы были возложены — тело вождя, убитые раба и животные, оружие, дары — наступал момент кремации. Ближайший родственник покойного (например, его родной брат или сын) должен был выполнить почётную обязанность — поджечь погребальный костёр. Он подходил с факелом или горящим поленом и подносил огонь к кораблю. Следом все присутствующие поджигали из разных сторон, подбрасывали пламени хворост, масла — чтобы огонь разгорелся посильнее. По описанию очевидцев, пламя поднималось очень высоко. Погода в такие минуты воспринималась как знак богов: если поднялся ветер и огонь пылал яростно, значит, небеса благоволят. Так, у могилы вождя один из русов (викингов) сказал Фадлану: мол, смотрите, «вы, арабы, глупцы — своих лучших людей зарываете в землю, где их пожрут черви, а мы сжигаем, и он мгновенно попадает в рай». Действительно, разгоревшийся костёр они трактовали как знак: «Это Господь любит его. Он послал ветер, чтобы забрать его в течение часа». Менее чем за час ладья, тело и все жертвы обратились в пепел. Викинги смеялись от радости, веря, что душа уже у богов.
Кремация выступала как необходимый ритуал освобождения и вознесения души — «огненный транспорт» в загробный мир, аналогично представлениям славян. После этого пепел, скорее всего, сгребали и могли либо рассеять, либо частично захоронить. -
Курган и поминальный пир. На месте сожжения у скандинавов было принято возводить курган — насыпь из земли и камней — в память об усопшем вожде. Ибн-Фадлан отмечает, что после обряда русы насыпали курган и поставили в землю высокий столб с вырезанным именем покойного и царя. Деревянная стела с рунами или рисунками служила и надгробием, и знаком для путников (подобно славянскому столбу с урной). Курган отмечал владение умершего и одновременно «запечатывал» место смерти — чтобы мёртвый не вернулся. После этого вся дружина, родные и гости собирались на поминальный пир — аналог славянской стравы. Такой пир у викингов назывался «арвель» (наследственный пир) или «похоронный эль». Обычно он происходил на седьмой день после погребения и назывался сююнд (от др.-сканд. sjaund — седьмина). В этот день устраивали обильное питьё эля (пива, медовухи), проходил ритуальный симбел (круговые тосты). Сьюунд завершал земной путь умершего: только отпраздновав этот похоронный эль, родственники официально считались свободными от траура, наследники получали права на имущество, а новый глава рода вступал в свои обязанности. Таким образом, поминальный пир у скандинавов был не просто поминками, но и социальным институтом — он фиксиpовал продолжение жизни общины без умершего. За столом пели песни о деяниях покойного, славили его подвиги, рассказывали саги, чтобы его слава жила в памяти. Вспоминается из «Старшей Эдды»: «Добрую славу стяжёт себе тот, кто умрёт — лишь она не умрёт никогда». Действительно, для викингов важнейшим было увековечение имени — ради этого и совершалась вся роскошь похорон.
Мифологический смысл скандинавских обрядов
Каждая деталь скандинавского погребения также имела глубокий символизм. Ладья — символ пути в загробный мир (вспомним ладью бога солнца, плывущую по небесному океану — образ, близкий многим индоевропейцам). Конь, сожжённый с хозяином, — явно отсылка к тому, что в небесном войске Одине всаднику потребуется конь.
Рубка мечей, щитов и убой животных — одновременно дары богам и практическое «отправление» имущества следом за душой (чтобы не досталось живым).
Сексуальный ритуал с рабыней — возможно, имел и магическое значение: через совокупление с живыми воинами она «накапливала жизненную силу», энергию, чтобы перенести её своему господину в мир мёртвых. А её видения на воротах — это, по сути, пророчество, подтверждающее всем присутствующим реальность загробной жизни (эдакое «око свидетеля», который видит то, что скрыто).
Смерть рабыни от руки жрицы — тоже наполнена сакральным смыслом: старуха-ритуальщица, которую называли «ангелом смерти», воплощала богиню смерти (может быть, саму Хель или одну из валькирий), забирающую жизнь избранной для высшей цели. Таким образом, обряд был не хаотичным насилием, а именно строго регламентированным переходом — «посвящением» души в новое состояние.
Наконец, яростное пламя костра у викингов имело то же космогоническое значение, что и у славян. Скандинавы почитали огонь как очистительную стихию: в мифах огонь Муспелльхейма участвует в сотворении мира, а в конце времён огненный великан Суртр сожжёт вселенную. Для отдельного человека погребальный костёр был малой ритуальной копией этой миротворящей силы — огонь возвращал тело в стихию, а душу — богам. Викинги прямо говорили, что огонь — лучший гроб, потому что он не даёт червям тронуть плоть и сразу переносит человека к Господу. Такая вера подкреплялась реальным наблюдением: при сжигании сразу после смерти труп не разлагается, не смрадит — значит, нечисть не успевает коснуться его, а душа уходит «чистой».
После похорон скандинавы, подобно славянам, продолжали поминать своих умерших. Помимо седьмого дня, могли справлять поминки спустя время — упоминаются трапезы на 40-й день или годовщину (хотя эти детали известны больше по христианизированным источникам). Также у них были бытовые домашние жертвы предкам — например, на Йоль (зимний солнцеворот) было принято поднимать тосты за ушедших родичей, дарить богам резные фигурки с именами предков. У северных народов верили, что некоторые души достойных людей могут переродиться в семье — недаром дети часто получали имена дедов, бабушек, и существовало поверье: «родившийся мальчик — это чья-то ушедшая душа вернулась». Таким образом, и скандинавы видели смерть как часть круговорота: «деды умирают — внуки рождаются». Они хранили память в рунических камнях, которые ставили с надписями типа: «Торвальд поставил этот камень в память об Эгиле, своём отце, храбром воине…». Эти рунические стелы — аналог славянских поминальных столов — служили вечной записью, чтобы имена не стёрлись.
Сравнение элементов славянской и скандинавской тризны
Элемент обрядаСлавянская традиция (тризна)Скандинавская традиция (викингское погребение)Подготовка телаОмовение покойника, облачение в лучшие одежды, укладывание с личными украшениями и оружием. Омовение (по возможности); шились новые погребальные одежды. Тело могли временно похоронить или держать в шатре до финальной церемонии.
Предпогребальное бдение
Ритуальное бдение с причитаниями (плачами) у тела; сочетание скорби и обрядового веселья (песни, танцы). Цель — проститься с душой и отогнать зло.Тело обычно не оставалось дома долго, но известно, что дружина собиралась почтить умершего; у русов пили крепкий напиток все дни до похорон. Рабыня-«жертва» в эти дни пьёт и веселится, как часть обряда.
Способ погребения
Преимущественно кремация на костре (крада). Прах либо развеивался, либо помещался в урну и ставился на столпе. В некоторых случаях — похоронение несожжённого тела (грунтовая могила или курган), особенно с XI века.Сочетание кремации и ингумации: часто умершего сжигали вместе с кораблём и всеми дарами. Альтернатива — захоронение корабля целиком под курган (Осеберг, Гокстад). В любом случае, присутствует либо реальная ладья, либо символическая (лодка, колёсница).
Сопровождение покойного
В могилу или на костёр клали личные вещи, оружие, пищу, питьё. Иногда приносили в жертву животных (коней, птиц) — археологи находят кости животных в славянских курганах. По некоторым свидетельствам, у балтийских славян жёны добровольно сжигали себя вместе с мужьями, веря, что только так попадут в рай (описано у хронистов для VIII—IX вв.). Обязательны жертвы: животные (кони, собаки, домашняя скотина, птица) — их убивали и помещали на погребальный костёр. Часто сопровождали рабы/рабыня — у викингов это было социально принято (Ибн-Фадлан описал ритуальное убийство рабыни). Такой обычай подтверждён раскопками (в некоторых погребениях викингов найдены останки нескольких людей — вероятно, слуги).
Воинские игры и обряды
Отличительный элемент славянской тризны — игрища, поединки, конские ристания на месте погребения. Они символизировали воинскую честь покойного и отпугивали злых духов. Также — хороводы, пляски, имитации сражений.В скандинавских источниках прямо о боях на могиле не говорится, но есть упоминания, что на похоронах знатных могли устраивать похвальные речи, песни о подвигах. В сагах иногда описаны «игры» на поминках (например, метание оружия, соревнования в красноречии). Конкретно для русов Ибн-Фадлан не упоминает игр, но сам весь ритуал — уже драматическое действие.
Поминальная трапезаСтрава (тризна-пир) — после погребения все участники угощаются ритуальной пищей и мёдом. Произносятся поминальные тосты, звали душу «отведать» кушанья. Повтор поминок на 3-й, 9-й, 40-й дни. Пища символическая: каша (земля), блины (солнечный символ), мёд (сладость загробной жизни).
Похоронный эль (arvel, sumbel) — устраивался обычно на 7-й день (сиюнд). Пили много эля и медовухи, вспоминали усопшего песнями. Только после этого семья считала обряд завершённым. В дальнейшем — ежегодные поминки могли приурочиваться к Юлу или особым датам. Еды на пиру — мясо жертвенных животных, хлеб, пиво. Обязательно возносились тосты за величие покойного.Представления о душеДуша должна пройти через огонь (костёр) — очищаясь, взмыть к богам. Далее — перейти реку Смородину по Калинову мосту под опекой Велеса. Получает приют в Нави среди предков. Если достоин — может переродиться или стать охранителем рода. Если нет — превратится в навь (злой дух). Тризна помогает душе: огонь, плачи, жертвы — всё обеспечивает её правильный переход.Душа храброго воина — забирается валькириями в Валгаллу (либо Фрейей). Душа обычного человека — идёт в Хель, мрачное царство под землёй. Кремация считалась лучшим способом отправить душу прямо к богам. Ветер, раздувающий костёр, воспринимали как дух, уносящий душу в небеса. Считалось, что неправильно похороненная душа станет драугром (неупокоенным — живым мертвецом), который может вредить живым. Поэтому соблюдали все ритуалы, чтобы усопший был доволен и не возвращался.
(Примечание: сравнение основано на реконструкциях и исторических свидетельствах X—XI вв.; терминология условна, так как собственно слова «тризна» скандинавы не употребляли, но аналогичные элементы присутствовали.)
Заключение
Обряд тризны у славян и похоронные церемонии скандинавов — яркий пример того, как близки были мировоззрения народов в отношении смерти. И те и другие видели в смерти переход, а не конец; старались обеспечить умершему всё необходимое «на том свете» и умилостивить высшие силы. Через огонь, песни, жертвы и пиршество они стремились гармонично провести грань между мирами — чтобы душа ушла, а живые могли жить дальше без страха. Эти обряды сочетали глубокий сакральный смысл и практически-психологическую роль: община прощалась с членом, устраивая драматическое действо, где было место и слезам, и смеху, и буйству, и благоговению.
Даже спустя тысячу лет, благодаря летописям, сагам, раскопкам, мы можем восстановить контуры этих обрядов. Конечно, многое остаётся в области догадок и реконструкций, однако основные черты ясны. Тризна — это финальный дар любви живых своему умершему: когда последние искры костра гаснут и стихает боевой рог, душа, очищенная огнём и прославленная в славлениях, уходит дорогой предков. А живые, вкусив ритуальной стравы или эля, говорят друг другу: «Будем же помнить нашего друга. Его солнце закатилось, но не канула его слава». И в этих словах — победа жизни над смертью, главный смысл всех погребальных обрядов.
Источники и литература:
-
Повесть временных лет (сост. В. П. Адрианова-Перетц). — М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. (упоминания тризны: сожжение у вятичей, тризна Ольги)ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org.
-
Рыбаков Б. А. «Язычество Древней Руси». — М.: Наука, 1987. (описание погребальной обрядности славян)ru.wikipedia.orgslavyanskieoberegi.ru.
-
«Славянская мифология» / Сост. Л. Вагурина. — М.: Линор, 1998. (статья «Тризна»)ru.wikipedia.orgru.wikipedia.org.
-
Белецкая Н. Н. “О некоторых ритуальных явлениях языческой погребальной обрядности (к анализу сообщения Ибн-Фадлана о похоронах «русса»)” — История, культура, фольклор и этнография славян, М., 1968ru.wikipedia.org.
-
Ибн-Фадлан (пер. В. Ковалевского). Записка о путешествии на Волгу (922 г.). — Пер. по арабским источникам (Сов. востоковедение, 1939). Описание похорон руса (викинга)diletant.mediadiletant.mediadiletant.media.
-
Медведь А. «Путешествие Ибн Фадлана: похороны знатного руса», Дилетант, 28.01.2023diletant.mediadiletant.media.
-
Музей мировой погребальной культуры — статья «Погребальные обряды викингов» (2015)musei-smerti.ru.
-
Utrata.by — статья «Тризна — символизм и история обряда» (2022)utrata.byutrata.by (общие сведения, белорусская этнографическая версия).
-
Slavyanskieoberegi.ru — очерк «Тризна» (2021)slavyanskieoberegi.ruslavyanskieoberegi.ruslavyanskieoberegi.ru (реконструкции на основе фольклора и летописей, цитируется молитва Велесу).
-
Сборник русских похоронных причитаний (Новгородские записи, XIX в.) — пример плача князя Ярополкаrusvolya.ru.
-
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890—1907) — статья «Тризна» (историко-этнографическое обобщение)ru.wikipedia.org.