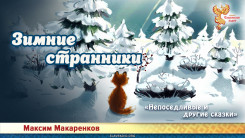Начало здесь

Оборотник-любопытник редко со мной разговаривает. Он любит просто ходить рядом. Возникает совершенно бесшумно и идёт поблизости. Заглядывает в глаза, улыбается чему-то своему. То спокойно идёт, то начинает подпрыгивать, старается поддеть носком потёртого, но крепкого ещё ботинка камешек или ветку, упавшую на лесную дорожку.
Он больше всего любит со мной в Измайловском парке гулять. Не столько за мной смотрит, сколько за другими людьми.
А почему любопытник?
Дело в том, что ему всё интересно, всё любопытно, но он редко спрашивает. Смотрит, сам делает какие-то свои выводы, иногда головой кивать начинает, и тогда мне не по себе делается — он же не человек, вообще, я даже не знаю как описать кто он такой.
Не потому, что не знаю, а потому, что не понимаю. Он за пределами тех понятий, которые, в принципе, человеческий язык описать может.
Нет, конечно, выглядит он, как человек. И когда я его встретил впервые. Он так и выглдел — молодой худощавый застенчивый мужик в спортивной куртке оливкового цвета, свободных штанах и высоких потёртых ботинках, какие любят туристы и охранники.
Я не уловил момента, когда он возник — просто появился рядом с дедом Колясычем. Тот, вот, что-то уловил, глянул вбок и сказал: – О, здорово! Вот и ты.
Хлопнул оборотника по плечу и показал на меня,
— Вот, знакомься. Ты про него спрашивал, давайте, дальше сами разговаривайте.
И ушёл, зараза, сказал, что надо Алексевне помочь, дескать, поветка у старухи совсем развалилась!
А я остался один на один с оборотником.
Смотрел на него, и мне всё больше становилось не по себе. С каждым мгновением я всё отчётливее понимал, что передо мной не человек.
Знаете, как бывает, когда сидишь один дома, весь свет в квартире погашен, уютно, настольная лампа светит так жёлто и тепло, как в детстве, когда чётрову математику уже сделал, осталась только литература, а это легкотня, и её делать одно удовольствие. И ты смотришь в темноту и точно знаешь, что там кто-то есть, там что-то шевелится, но ты этого не ощущаешь. Просто знаешь, что так и есть.
Вот с такой же стопроцентной убеждённостью я знал, что передо мной не человек. Я его совершенно не боялся — раз Колясыч привёл, значит, зла оно мне не сделает, но чужеродность как-то … напрягала.
Он стоял рядом и смотрел, как я обстругиваю колышек, который хотел вбить, чтоб укрепить доски вокруг компостной ямы. На самом деле, конечно, это куча была, но тут их все называли ямами. И я так называл.
Я пошёл к яме с топором и колышком, вдруг понял, что гостя моего рядом нет. А когда первый раз ударил по колышку, загоняя его в сухую, мёрзлую землю, он уже стоял рядом и с интересом смотрел, как я работаю.
Закончив вбивать колышек, я воткнул топор в лежавшее поблизости бревно и спросил:
— Вы кто?
Он стоял всё также: расслабенно опустив руки, чуть наклонив голову, и я уже решил, что существо не понимает или не умеет говорить, но вдруг тот, кто был в теле этого молодого мужчины, очень хорошо, совсем по-человечески, улыбнулся и сказал:
— Мне интересно.
Замялся, подбирая слова,
— Мне интересно здесь и мне интересно вот, так, как я…
Говоря это, он ткнул себя пальцем в щёку. И вот это было совсем не по-человечески. Понимаете, движение такое человек сделать может и слова такие сказать — тоже. Но всё вместе не укладывалось, не сросталось в нормальную для человека картину.
Не знаю, почему мне пришла в голову эта мысль, но я спросил:
— А тот, кто тут, — и я постучал по плечу, обтянутому потёртой курткой, — кто тут был, он где? Он, вообще, живой?
На этот раз мой собеседник подбирал слова гораздо дольше, совершенно по-детски сопел и тёр нос.
— Он есть. Да, есть! — обрадовался гость и даже рукой воздух рубанул, — я могу вернуть!
И тут он развёл руками, — Но ему не нужно. Ему всё равно.
М-да. Не очень было понятно, но на душе стало чуть легче.
Он пробыл со мной почти весь день, до самых сумерек, с интересом смотрел, как я вожусь во дворе, в огороде, хотя, казалось бы, что в огороде поздней осенью делать. Да ещё таком, где пару лет точно ничего не сажали. Земля уже смёрзлась, местами даже покрылась сероватым инеем, но я решил хотя бы граблями чуть пройтись, разбить самые крупные комья. Если честно, просто хотелось занять себя.
В дом оборотник не входил. В какой момент пришло мне в голову это слово, я не знаю. Просто я понял, что зову его так про себя, и понял, что, значит, быть ему оборотником.
Слово “любопытник” прилепилось чуть позже. А тогда я просто сходил, налил свежезаваренного чая в две кружки и вышел на крыльцо. Сунул одну горячую кружку в руки оборотника.
— На, попей горячего, а то нос уже красный.
Он взял её осторожно, подул, пригубил и совсем по-человечьи кивнул. Мол, да. Это здорово, пить чай в морозных сумерках, смотреть, как ночь укрывает чёрный лес и чёрно-белую землю, и по одному загораются огоньки в окнах покосившихся деревенских изб.
Допив чай, он аккуратно поставил кружку на ступеньку и молча растворился в темноте.
Я пожал плечами, забрал кружку и пошёл в тепло.
Часов в десять вечера заглянул Колясыч. Я согрел чайник, собрал на стол какой-то нехитрой снеди и начал расспрашивать деда.
Колясыч тоже любил чаёвничать. Он не терпел халтуры в приготовлении чая, не понимал “этой вашей городской манеры” разбавлять заварку кипятком и священнодействовал сам. Отмерял заварку, досыпал сушёную мяту, высушенные ягоды малины и ещё какие-то травки и оставлял всё это завариваться, укрыв чайник полотенцем. Кулёчки с травами он подарил мне во вторую нашу встречу, когда я уже почти разобрал жилые комнаты дедова дома и сидел перед печкой, с наслаждением вытянув ноги. Подарить подарил, но когда заглядывал, меня к чайнику не подпускал.
Я и не сопротивлялся, уж больно вкусным получался у Колясыча чай.
— Дед, он откуда взялся? — спросил я напрямую, — Он кто такой?
Колясыч пожал плечами,
— С Тракта, откуда ж ещё.
О Звёздном Тракте он мне рассказал ещё осенью. Мы сидели, смотрели, как сумерки переходят в ночь, как загорается и гаснет над красным лесом оранжево-багряная полоса, и лес становится чёрным, и на небо высыпают белые, холодные звёзды. Здесь их было гораздо больше, чем в городе, и даже на Красотынке, где я любил выбраться ночью из палатки и смотреть на небо, пока не начинала кружиться голова.
Дед начал говорить ни с того ни с сего. Он просто продолжил разговор, который мы и не начинали. Или, начинали, но я этого не помнил?
Он смотрел в небо и рассказывал о том, что Явь, она не одна, но и говорить, что их много, тоже не совсем правильно. Он говорил о том, что там, там, высоко, в глубине Многомирья измысливают новые Яви Старшие Сущности. Те, которые первыми начали творить Звёздный Тракт. Или, Мировое Древо. Или, Звёздную Реку, по берегам которой стоят деревни с тихими жёлтыми огоньками в окнах, и плывут лодки рыбаков, ладьи торговцев и корабли мёртвых. По её берегам живут люди и нелюди, боги и те, кто стал богами. А другие видят эту реку Звёздным Трактом, дорогой, к которой выходит бесконечность тропок, и по этим тропкам идут разумные, и некоторые выходят целыми мирами, и вливаются в поток бесконечного разумного движения, цель которого — наполнить мудрой спокойной мыслью-смыслом всё Многомирье, всю Явь. А другие разумные опережают свои народы и становятся пророками и сновидцами. Они лишь приоткрывают дверь и могут только наблюдать за тем, что видят. Но и это выдерживают не все.
Он говорил, а я смотрел, как ярче загораются звёзды, темнее становится небо, и видел эту бесконечную сияющую дорогу в небе. От этого делалось прекрасно-горько и больно в груди, перехватывало дыхание, и я опрокидывался в небо, летел и слушал дедов голос.
Он хлопнул меня по плечу и позвал в дом.
— Идём, совсем озяб поди.
Сейчас Колясыч потирал руки и готовился разливать чай.
— Ты говоришь, откуда он тут, да почему? Как тебе сказать? Я и сам толком не знаю, он же говорит так, что ничего не поймёшь. Только я так рассуждаю. Те, которых я Старшими называю, ну ты их ещё Старшими Сущностями назвал, они же настолько древние и о таких вещах думают, что сложно им уже понимать, каково это — молодыми-то быть. А как им понимать что это такое, если как-то в молодые миры, к молодым-то разумам не приходить? Ну, вот, как родители — как им дитя-то понять? Воооот! Потому разумный-то родитель нет-нет, да и начнёт себя как ребёнок вести, вместе с дитём баловаться. Ну а эти, как ты говоришь, оборотники да любопытники? Ты это хорошо назвал — вот, они сюда и приходят, чтобы смотреть да вспоминать. Интересно им это.
Тут Колясыч стал серьёзным,
— А ещё я так разумею. Смотрят они, чтоб зла не натворили такого, чтоб оно на Тракт выплеснулось. Сам видишь, что люди друг с другом творить могут.
Я молчал. Пил чай и слушал. Дедов дом плыл в звёздной темноте холодной осенней ночи накануне зимы. Я чувствовал, как покачивается пол, поскрипывают стены, когда вселенские течения подхватывали его и несли мимо уснувших планет и остывающих звёзд, проносили мимо чёрных дыр и взрывающихся сверхновых. В окне мелькали отсветы неведомых пожаров, заново созидаюших галактики, перерождающих миры и разумы….
В какой-то момент в дверях возник оборотник. Он стоял, прислонившись к дверному косяку, и тоже слушал Колясыча. Слушал и молча кивал.
А в кресле-качалке возле печи сидел мой давно умерший дед и улыбался мне. Он был таким, каким я его увидел много лет назад в комнате с тёплой оранжевой лампой и уютными креслами. Мне помогла его увидеть женщина с добрым мягким лицом и огромной силой в спокойных всё понимающих глазах.
Таким он был и сейчас — в белой свободной рубашке с закатанными до локтей рукавами и широких серых брюках. Загорелые руки спокойно лежали на подлокотниках кресла, длинные сильные пальцы поглаживали полированное дерево.
Мне стало очень тепло и спокойно.
Я кивнул оборотнику, мол, присаживайся, но тот покачал головой — мне и здесь хорошо.
И мы долго сидели и слушали деда Колясыча.
— Ну ладно, засиделся я что-то, — хлопнул он себя по коленям и поднялся, как всегда внезапно, — пора и честь знать. Спасибо за чаёк, за угощение. Пойду я.
Я проводил деда до калитки, долго стоял потом, глядя на тёмные дома, чёрную стену леса, почти невидимую в ночи, холодные звёзды над головой.
Наконец, я замёрз и пошёл спать.
Оборотника в доме уже не было.
Кажется, он не любит заходить в дома.
___***____
— Да что ты пристал, откуда он, да откуда, — в сердцах плюнул Колясыч, — ты всё не о том спрашиваешь!
Мы стояли у калитки, Колясыч приплясывал, сунув руки в карманы телогрейки, постукивал валенком о валенок.
Я тоже подзамёрз, но в дом идти не хотелось, хотя там было тепло и уютно, и я очень полюбил дом именно таким — натопленным, но не душным, пахнущим сухим добрым деревом, старыми чистыми половиками, сушёной пижмой, которую дед, видать, развесил много лет назад по углам комнаты под потолком, а я снимать не стал, и ещё чем-то трудноуловимым, но очень приятным, чем пахнут хорошие деревенские дома, в которых долго жили хорошие люди.
А дед был хорошим человеком.
Видимо, меня мотануло — я так называл состояние, которое появилось у меня только здесь и случалось только на воздухе. Я вдруг словно слегка смещался и мыслями, и ощущениями уходил чуть в сторону и оказывался в другом времени и месте. Это продолжалось очень недолго, и я быстро возвращался обратно, но всегда на какое-то неуловимо краткое мгновение видел всё вокруг словно через очень прозрачную чистую воду.
Поначалу это пугало, потом стало забавлять.
Поэтому сейчас я с улыбкой глядел на Колясыча, который замолк и внимательно всматривался в меня.
— Ну интересно же, — улыбался я.
— Что тебе интересно? — горячился Колясыч, — попал, ну и попал. Ты, вон, тоже сюда попал. И что? Вроде, на поезде приехал? А спроси на станции, есть тот поезд, нет его?
И он развёл руками.
Оп-па… Честно говоря, я даже похолодел слегка. Что он имеет в виду?
В голову полезли всяческие заложные покойники, неупокоенные души и обрывки дурацких сериалов о духах, которые никак не могут понять, что они умерли.
Или… я всё же заблудился между ветвями Яви и сейчас потихоньку схожу с ума?
И оборотник, Колясыч, вся эта деревня — всё это моё больное воображение, наложение разных ветвей-версий реальности, которые я не в состоянии удержать в голове, упорядочить?
Интересно, я скоро начну отдавать честь продавцам и докладывать об утерянной Гиперборее?
Видать, Колясыч что-то понял.
Похлопал меня по плечу и сказал,
— Ты, давай, иди снег греби, вон его сколько навалило. А про оборотника я тебе вот как скажу. Он не просто так появился. А зачем-то. Значит, просил ты о чём-то, что-то тебе нужно было. Там, — и дед поднял крепкий, чуть кривоватый палец к набухающему серыми снежными тучами небу, — всегда отвечают, всегда откликаются. Только мы это не всегда понять можем. А потому учись знаки читать. Или с ними разговаривать.
И он ушёл.
А я начал раскидывать снег. Мне это нравилось.
Я начал расспрашивать оборотника, но он или молчал, или отвечал медленно, тяжело подбирая слова, будто общался с очень маленьким ребёнком, который плохо понимает язык и ещё не может осилить самые простые для взрослых понятия.
А когда он спрашивал, вставал в тупик я. Но не от того, что не мог объяснить…
Я понимал, что мои ответы попросту никуда не годятся. Я вслушивался в них будто бы со стороны, словно произносил их не я, и испытывал растерянность, а то и жгучий стыд.
Помню, он как-то спросил, что такое «тяжёлое чувство», или «тяжёлое сердце». Поймал меня, когда я что-то такое делал по двору, какую-то несложную монотонную работу, весь ушёл в свои мысли, и — на тебе.
Я попытался объяснить, приводил разные примеры. В том числе историю о сгоревшем доме престарелых, о девушке, которую посадили после того¸ как она, отбиваясь, зарезала насильника, словом, разное говорил. То, от чего у меня самого на сердце плохо делалось.
Оборотник внимательно слушал, а потом спросил что с этими людьми.
Я сказал, что не знаю, я просто читал эти истории.
— Но ты же мне объяснял, что у тебя тогда было тяжёлое чувство? Значит, чтобы было легче, ты просто оставляешь это чувство и его тяжесть тем, кому было тяжело? А сам забываешь?
— Всем не поможешь, стараюсь помогать тем, кто рядом, помогаю кому могу… и ещё целый ворох тех привычных слов, которыми мы пытаемся объяснить такие вещи.
Только на этот раз ворох рассыпался, а солома была гнилой.
Не помогало.
— Тогда зачем ты всё это вспоминаешь и рассказываешь? И зачем вы столько таких вещей узнаёте, если тут же забываете?
Вот, как ему всё это объяснить?
В другой раз он наблюдал, как я смотрю старый портативный телевизор, который мне добыл Колясыч. Я включал его редко, и чаще не как телек, а как радиоприёмник — знаете, одно время очень популярные были штуки. Крохотный цветной экранчик, размер которого и придавал очарование всей этой машинке, и отдельно шкала радиоприемника.
Он внимательно смотрел. Особенно рекламу.
А потом спросил — зачем так много и так быстро?
Я так и не нашёлся что ответить.
Я вдруг понял, что он спрашивает не только об этом истерично мельтешащей рекламе (кстати, за каким хреном я её смотрю, если она у меня не вызывает ничего, кроме раздражения).
За каким чёртом мы, которые считаем своё существование кратким и конечным, пытаемся впихнуть в себя столько того, что сами же считаем неважным, ненужным и раздражающим?
Зачем впихиваем так много и, главное, пытаемся сделать это так быстро?
Я что, пытаюсь ускориться, чтобы быстрее перебраться из дома в домовину, наполненный чем? Раздражением от того, что я попытался впихнуть в себя то, что раздражает меня в той ветви Яви, которую я считаю своей?
А почему я не создаю свою ветвь? Ту, которая устраивает меня?
Пусть я её даже и не успею достроить, не смогу научиться всему, что для этого нужно, не сумею переделать себя так, как хотелось бы.
Но не лучше ли плыть в чистом потоке, по широкой неторопливо катящей пахнущую солнцем воду реке, никуда не спеша. Создавать эту реку, измысливать берега с древними деревянными храмами могучих и мудрых богов, города, где живут лукаво улыбающиеся купцы и погружённые в созидание мастера, прекрасные девы и шумная ребятня?
Я по-новому посмотрел на оборотника и вспомнил слова Колясыча — лучше спроси, зачем…
С этого времени я стал замедляться.
Сознательно, усилием воли я стал замедлять себя и мир вокруг.
Лишь осознав, что такая возможность у меня есть, я понял насколько это сложно и, вместе с тем, насколько просто.
И насколько странные, непривычные вещи начинают происходить, когда это получается хоть на мгновение.
Сквозь всё ускоряющееся мельтешение привычного мира вдруг выхватываешь боковым зрением полупрозрачные, будто написанные в медовом воздухе акварельными красками силуэты очень древней величаво-медленной Яви.
И понимаешь, что она здесь. Эти неторопливые, точнее, не мельтешащие, а полные смыслов потоки Яви здесь, они никуда не делись, и ты можешь видеть и прошлое, и будущее.
Это ощущение у меня не получается вызвать целенаправленно. Оно всегда возникает само собой, когда я замедляюсь и глубоко ухожу в какое-то интересное для себя дело.
Со временем обнаружился ещё один интересный эффект.
Вокруг меня стало меньше смыслов, но они стали глубже, насыщеннее.
Но вот это состояние надо поддерживать в себе постоянно. Это возможно только, если начинаешь целенаправленно налаживать своё пространство, наполнять его теми смыслами, которые откликаются, заставляют звучать в ответ те глубинные струны, которые составляют самую основу естества.
Увы, я убедился, что якобы мудрые слова о том, что «раз ступив уже не свернёшь» — не работают.
Свернёшь. И не раз. Силы, которые сейчас создают ветвь Яви для большинства, постараются сделать всё, чтобы погрузить человека в то восприятие, которое нужно и выгодно именно им. И, оп-па, вы уже обнаружили себя за новым прокручиванием ленты соцсети или серьёзным обдумыванием какого оператора кабельного ТВ выбрать.
Такие дела, ребята, следите не только за границами той Яви, которую вы решили для себя создать, но и за её наполнением.
Впрочем, об этом поговорим как-нибудь отдельно, если будет желание.
Примечания автора:
Этот текст я принципиально выкладываю бесплатно, но буду признателен за оценки и награды текста.
Прошу понять правильно — это не роман с четко определенным сюжетом. Информация мира приходит не по заказу, обрабатывать её я тоже не всегда могу быстро, к тому же, не всегда сразу понятно, как перевести её в понятные людям слова и образы. Не всегда сразу понятно — стоит ли, вообще, публиковать узнанное и пережитое.